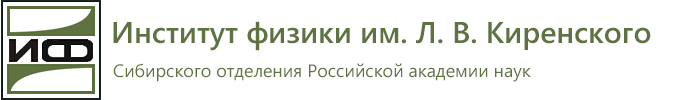Лундин Арнольд Геннадиевич
 Представленные здесь строки, посвящены памяти Арнольда Геннадиевича Лундина. Это не биографические заметки, а лишь некоторые эпизоды его профессиональной деятельности, тесно связанные с людьми, для которых он был авторитетным научным руководителем.
Представленные здесь строки, посвящены памяти Арнольда Геннадиевича Лундина. Это не биографические заметки, а лишь некоторые эпизоды его профессиональной деятельности, тесно связанные с людьми, для которых он был авторитетным научным руководителем.
С этим человеком я был так или иначе связан свыше 35 лет - значительную часть моей профессиональной жизни, из которых 15 лет мы работали бок о бок. Он был моим научным наставником и оказал на меня огромное влияние, и не только в науке.
Я познакомился с ним в начале 1960-х, когда бывшее здание издательства газеты "Красноярский рабочий" на проспекте Мира 55 было отдано Науке: там разместилась Красноярская комплексная лаборатория Института геологии и геофизики СО АН СССР, а также недавно возникшая в Институте физики группа радиоспектроскопии, которой руководил А.Г. Лундин.
Я работал тогда с геологами, занимался изучением возраста удных месторождений Красноярского края с помощью изотопных измерений, и он иногда заходил ко мне, наблюдая за моими масс-спектрометрическими занятиями. Я еще не знал кто он, но мне импонировало его любопытство, и я с удовольствием отвечал на его многочисленные вопросы.
В конце 1963-го я решил радикально изменить направление своей работы и перебраться в основанный сравнительно недавно Институт физики СО АН СССР, и в начале января 1964-го отправился на прием к Арнольду Геннадиевичу, который к тому же был заместителем директора Института физики.
Мы поговорили, мне был задан вопрос, чем бы я хотел заняться. Похоже, мои ответы удовлетворили его, к тому же, как сказано, он был знаком с моими прежними занятиями. Однако он никогда не принимал к себе людей "в темную", не наведя соответствующих справок у моего тогдашнего шефа, доктора геолого-минералогических наук Г.В. Войткевича, который отозвался обо мне очень положительно. Через пару дней ко мне зашла одна из его сотрудниц - Галя Гаврилова - Подольская, c которой я был немного знаком ещё со студенческих лет. Она сообщила, что её шеф собирается принять меня в свою группу и просит зайти к нему, что я, разумеется, сразу и сделал.
Лундин был тогда еще молод - 38 лет, но имел за плечами уже довольно солидный жизненный и трудовой опыт - закончил радиотехнический факультет Московского энергетического института, три года занимался наукой в должности младшего научного сотрудника в Институте физических проблем Академии наук СССР. Среди прочего посещал там известные семинары Л.Ландау и даже попытался сдать знаменитый "экзамен Ландау" (об этом он рассказывал позднее с иронией, но не без некоторой доли гордости - как известно, этот экзамен сдало всего несколько самых талантливых теоретиков страны!). Около 13-ти лет проработал на Красноярском радиозаводе, пройдя путь от заведующего лабораторией до начальника конструкторского бюро, и практически все эти годы посвящал свободное время занятиям наукой - вначале в Пединституте, а с 1957-го года - в Институте физики под руководством Леонида Васильевича Киренского, который в 1963-ем предложил ему должность своего заместителя. Институт еще только формировался, Киренский был собиратель и у него был нюх на толковых людей. Он разглядел организаторские способности молодого ученого и поручил ему курировать строительство нового здания института и всей инфраструктуры в Академгородке. Задание было не из легких при том хаосе, который зачастую царил на строительных объектах. Лундин уделял этой работе много сил и времени, использовал все возможные рычаги давления и влияния, чтобы работы выполнялись качественно и в срок. Позднее мне пришлось пару раз вместе с ним присутствовать на планерках строителей и видеть, с каким упорством он добивался успеха.
В середине января 1964 года я приступил к совершенно новой для себя работе - исследованиям кристаллов методами ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
К 1964-му году эти методики были ещё очень новыми, тем не менее, некоторые зарубежные фирмы уже наладили выпуск исследовательской аппаратуры, которая, как всегда, была труднодоступна для советских учёнейших людей из-за валютных трудностей, и им приходилось создавать для себя приборы самим, зачастую, в не простых условиях. В Красноярске такая деятельность началась в самом конце 1950-х, когда начали совместную работу три человека: А.Г.Лундин, бывший в то время заместителем начальника конструкторского бюро радиозавода, сотрудник Института физики, выпускник Одесского университета Слава Габуда и сотрудник кафедры физики Лесотехнического института Геннадий Михайлов, специалист в области радиотехники. Эти люди поставили себе целью создать спектрометр ЯМР, провести серию исследований различных кристаллов и каждому написать кандидатскую диссертацию.
Основой спекттрометра послужил списанный на радиозаводе довольно большой электомагнит с напряжённостью поля около 3000 эрстед, установленный на лафете от зенитного орудия, который можно было поворачивать вместе с магнитом вокруг установленного в зазоре магнита образца, что давало возможность снимать угловые зависимости спектров. Работали по вечерам допоздна, а иногда, особенно под выходные и ночью.
Вся эта деятельность проходила в огромном подвале Лесотехнического института, где можно было устроить фундамент для магнита и пытаться хоть как-то уйти от электро- и радиопомех, которые были бичом этой аппаратуры из-за слабости наблюдаемых сигналов.
К середине 1963 года поставленная задача была решена – все защитили свои кандидатские диссертации, и Г. М. Михайлов отошел от дел, сосредоточившись на преподавательской работе. Работать в подвале было крайне неудобно, поэтому спектрометр переместили в пару комнат в студенческом общежитии, и к моменту моего прихода, там был установлен магнит, а остальное оборудование кучкой свалено в угол комнаты. На начало июня в Красноярске было намечено провести первую в стране конференцию по магнитному резонансу, на которую должны были съехаться многие учёные из разных городов, и не работающий спектрометр был для Лундина и его группы просто убийственен. Мне предстояло ликвидировать эту брешь в максимально короткий срок.
Работа по восстановлению спектрометра началась в конце второй декады января 1964 года, а через месяц были записаны первые пробные спектры, причём удалось не только сохранить, но и улучшить параметры прибора и сделать его более удобным. Конечно, с позиций сегодняшнего дня, спектрометр был довольно примитивный, он содержал только те элементы, которые нужны для наблюдения сигнала, никаких сервисных устройств и поэтому при экспериментах от него нельзя было отойти ни на шаг. Ламповые электронные схемы для борьбы с помехами питались от щелочных аккумуляторов, которые необходимо было бесконечно заряжать. Поскольку уровень помех и вибрации от проходящего по улице транспорта сильно снижались в ночное время, сложился определённый рабочий ритм: днём заряжались аккумуляторы, а ночью записывались спектры, много спектров, десятки метров диаграммной бумаги.
В таком ритме пришлось работать несколько месяцев, но зато группа радиоспектроскопии смогла хорошо представиться на конференции. Участники конференции, среди которых было немало известных людей в науке, размещались в профсоюзном доме отдыха на берегу Енисея, там же происходили все заседания. Во время работы конференции были организованы экскурсии в заповедник Столбы и, как человек хорошо знакомый с заповедником, я познакомился со многими людьми, работавшими в области радиоспектроскопии.
Конференция имела большое значение не только для исследовательской группы А.Г. Лундина, которая продемонстрировала высокий научный уровень исследований и стала известна в стране, но и для престижа самого института. Для института это был, несомненно, большой успех.
Осень этого года принесла в наш небольшой коллектив большие перемены. Лундин пригласил в свою группу несколько молодых сотрудников. Среди них супруги Олег и Людмила Фалалеевы. Он - физик, прошедший радиспектроскопическую специализацию в Новосибирске у известного учёного, академика В.В. Воеводского, а она – математик и программист, выпускники Иркутского государственного университета. А также пригласил химика Михаила Афанасьева, выпускника Новосибирского государственного университета.
Важнейшим событием, которое предопределило успешное развитие радиоспектроскопии в Институте физики на годы вперёд, было приобретение настоящего промышленного японского спектрометра ЯМР. Приобретение спектрометра оказалось возможным, благодаря настойчивости Л.В. Киренского и активности А.Г. Лундина, которые использовали для этого все мыслимые связи и контакты. Спектрометр JNM-3H-60 был по тем временам первоклассным прибором. Высококачественный электромагнит с напряжённостью поля в 14 тысяч эрстед и великолепная электроника обеспечивали широкие экспериментальные возможности. Поскольку пригласить специалистов фирмы-изготовителя было невозможно (Красноярск был тогда для иностранных граждан закрытым городом) установку и монтаж прибора мы провели сами. После первых включений выяснилось, что не работает одна из схем, но мне удалось понять причину и запустить прибор в работу. Всё обслуживание и необходимые ремонты были возложены на меня. Арнольд Геннадиевич четко следовал важному принципу Отто Бисмарка: "За всякое порученное дело должен отвечать один, и только один человек".
Все последующие месяцы до очередного летнего отпуска на спектрометре велись непрерывные эксперименты. Прибор выключался только в ночь с воскресенья на понедельник, а всё остальное время за пультом, сменяя друг друга, работали сотрудники. Мы все были молоды, и работа на таком классном приборе доставляла огромное наслаждение. Наш шеф нередко задерживался вместе с нами до позднего вечера.
В начале лета 1965 года завершилось многолетнее строительство здания Института физики в Академгородке и лаборатории приступили к освоению нового здания.
Для нас наиболее сложной задачей была перевозка спектрометра. Трёхтонный магнит спектрометра, который нельзя было подвергать ударам, надо было вытащить из комнаты, в которой он стоял, перевезти в Академгородок, спустить по лестнице в цокольный этаж здания института, протащить через лабиринт, ведущий в предназначенное помещение и установить на подготовленный заранее мощный бетонный фундамент, не связанный с корпусом здания. Этот фундамент, а также установленный во время строительства стальной экран помещения, должны были сильно снизить уровень радио- и акустических помех.
Лаборатория постепенно росла, Арнольд Геннадьевич привлекал к работе новых людей, возникли исследовательские группы по отдельным направлениям. Бывшая небольшая группа радиоспектроскопии превратилась в лабораторию, а в 1969-ом был образован отдел из двух лабораторий - радиоспектроскопического структурного анализа (зав. А.Г.Лундин) и кинетических процессов (зав. С.П. Габуда), расширялась и углублялась тематика исследований.
Важнейшими из них были:
- исследования в области теории магнитного резонанса, например, изучение влияния внутренних молекулярных движений на спектры ЯМР;
- широкие исследования кристаллогидратов - изучалась протонная структура и динамика в кристаллх - от простейших неорганических соединений до сложных биологических объектов;
- исследование сегнетоэлектрических фазовых переходов и природы возникновения сегнетоэлектричества;
- исследование электронной структуры кристаллов (химические сдвиги резонанса в диамагнитных кристаллах и сверхтонкие взаимодействия ядер с неспаренными электронами);
- исследование адсорбентов и поверхностных взаимодействий;
- исследования кристаллов методом электронного парамагнитного резонанса.
К 1971-му году в отделе было защищено 10 кандидатских диссертаций и 2 докторских диссертации (А.Г. Лундин - 1967 и С.П. Габуда -1969).
 Во всех этих работах А.Г. Лундин принимал самое активное участие. Постоянные обсуждения тематик, конкретных результатов исследований, дискуссии на семинарах. Он был демократичен, с ним можно было спорить, доказывая свою правоту. Эти споры могли быть даже острыми. "Худой мир лучше доброй войны",- считал он. Настаивал, если был уверен в своей правоте. Один пример. Я занимался тогда исследованием семейства сегнетоэлектрических кристаллов для своей будущей кандидатской работы и на одном из объектов этого семейства получил отличный результат, который мог сильно изменить сложившиеся к тому времени представления о причине необычных свойств этих кристаллов. На радостях вытащил свой уникальный образец из рабочего пространства спектрометра, температура в котором в этот момент составляла около -110º С, и поместил его на хранение в холодильник. Записанные спектры впечатлили Арнольда Геннадьевича, тем немене, он не был уверен в их достоверности и потребовал повторить эксперимент. Он был прав. Физический эксперимент только тогда чего-нибудь стоит, если он может быть повторён многократно. Была проведена повторная запись спектров в необходимом интервале температур и, к своему величайшему изумлению и огорчению, повторить полученный ранее результат не получилось. Разочарование было огромным. Я не сомневался в достоверности первого эксперимента. Значит, причина неудачи была связана с кристаллом - при резком отогреве до комнатной температуры в нём произошла структурная перестройка. Это предположение позднее подтвердилось, но стоило двух лет упорной работы, зато мы были абсолютно уверены в своих результатах. Такой стиль работы был для этого человека типичным.
Во всех этих работах А.Г. Лундин принимал самое активное участие. Постоянные обсуждения тематик, конкретных результатов исследований, дискуссии на семинарах. Он был демократичен, с ним можно было спорить, доказывая свою правоту. Эти споры могли быть даже острыми. "Худой мир лучше доброй войны",- считал он. Настаивал, если был уверен в своей правоте. Один пример. Я занимался тогда исследованием семейства сегнетоэлектрических кристаллов для своей будущей кандидатской работы и на одном из объектов этого семейства получил отличный результат, который мог сильно изменить сложившиеся к тому времени представления о причине необычных свойств этих кристаллов. На радостях вытащил свой уникальный образец из рабочего пространства спектрометра, температура в котором в этот момент составляла около -110º С, и поместил его на хранение в холодильник. Записанные спектры впечатлили Арнольда Геннадьевича, тем немене, он не был уверен в их достоверности и потребовал повторить эксперимент. Он был прав. Физический эксперимент только тогда чего-нибудь стоит, если он может быть повторён многократно. Была проведена повторная запись спектров в необходимом интервале температур и, к своему величайшему изумлению и огорчению, повторить полученный ранее результат не получилось. Разочарование было огромным. Я не сомневался в достоверности первого эксперимента. Значит, причина неудачи была связана с кристаллом - при резком отогреве до комнатной температуры в нём произошла структурная перестройка. Это предположение позднее подтвердилось, но стоило двух лет упорной работы, зато мы были абсолютно уверены в своих результатах. Такой стиль работы был для этого человека типичным.
Особой заботой для него было развитие методик и создание новой ЯМР аппаратуры. В частности, создавались высокотемпературные датчики ЯМР; аппаратура для записи спектров при высоких гидростатических давлениях; стартовали первые эксперименты по автоматизации эксперимента и обработке спектров ЯМР, в частности, вычисление вторых моментов этих спектров; начали развиваться импульсные методики ЯМР. В начале 1970-х он предложил заняться исследованиями при гелиевых температурах, и мы приступили к освоению непривычной для нас области температур, тесно связанной с дальнейшим расширением криогенной станции института. Он, вообще, приложил исключительно много усилий для развития этой станции, и именно благодаря А.Г. Лундину в институте возникла гелиевая техника и, как следствие, гелиевая тематика. Мы были пионерами в этой работе.
Становление новой исследовательской тематики, завязанной на использование жидкого гелия, проходило довольно трудно по разным причинам, в частности, из-за непригодности имевшейся аппаратуры для работы в низкотемпературной области. Надо было вести активные приборные разработки и Лундин начал формировать сильную инженерную группу. Постепенно сложилось и главное направление: создание нового спектрометра ЯМР с магнитным полем не менее 50 кЭ, что в 5 раз превышало напряжённость поля, с которым мы работали до сих пор. Такое увеличение напряжённости магнитного поля должно было значительно расширить экспериментальные возможности спектрометра, например, его чувствительность, а также ряд других параметров, о которых упоминать здесь нет смысла. Столь сильное магнитное поле предполагалось получить с помощью катушки („соленоида“), намотанной сверхпроводящим проводом, производство которого вслед за зарубежными фирмами было, наконец, освоено также и в Советском Союзе.
 Задача была невероятно сложна, тем не менее, уже к 1974-му году был создан первый вариант прибора, разумеется, еще весьма "сырой", и который конечно нуждался в доводочных работах.
Задача была невероятно сложна, тем не менее, уже к 1974-му году был создан первый вариант прибора, разумеется, еще весьма "сырой", и который конечно нуждался в доводочных работах.
Арнольд Геннадиевич всегда придавал большое значение тому, что англичане обозначают словом publicity, - представление наших работ на всесоюзном и межнародном уровне, многочисленные контакты с миром ученых, участие в работе комиссии по радиоспектроскопии, созданной в Академии наук и т.д.
Наш прибор был выставлен на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства), был отмечен медалями и вызвал оживленную дискуссию. На следующий год новый, сильно доработанный вариант спектрометра был выставлен на международной осенней школе ЯМР в Лейпциге.
Отдел радиоспектроскопии А.Г. Лундина в Красноярске стал среди специалистов признанным центром ЯМР - приборостроения.
Разработка нашего прибора к этому времени уже шла в рамках большой Академической программы, целью которой было создание целой серии приборов и установок для научных исследований. Отставание страны от мирового уровня в этой области (если бы только в этой!) принимало угрожающие размеры и некоторые энтузиасты в Академии наук, среди них и А.Г.Лундин, пытались хоть как-то спасти положение, создав большую программу и пробив некоторое финансирование.
Благодаря этим усилиям, руководство Управления научного приборостроения Академии наук решило запустить наш спектрометр в малую серию на заводе Экспериментального приборостроения АН СССР в Черноголовке. Эта работа растянулась на несколько лет и завершилась выпуском серии из десяти приборов.
В ноябре 1979 года Арнольд Геннадьевич официально сообщил своим сотрудникам о том, что он покидает институт и уезжает в Москву. Собственно, его всегда тянуло в столицу, в город, где прошли его молодые годы. У него была дача в подмосковье, где он проводил большую часть своих отпусков и куда он иногда приглашал и своих сотрудников. Поэтому неудивительно, что он приложил множество усилий, чтобы вернуться "домой".
Накануне отлета в Москву он пригласил меня на лыжную прогулку. Мы шли по прекрасным, заснеженным окрестностям Академгородка, и он рассказывал о своих планах на будущее. Я считал предпринятый им шаг глубоко ошибочным и призывал отказаться от своего намерения.
Вскоре он и сам осознал, что совершил ошибку и решил вернуться в институт, но ему было отказано. С моей точки зрения, это было несправедливое решение тогдашнего руководства института и имело сложные последствия для созданного Арнольдом Геннадиевичем научного подразделения института.
Конечно, его профессиональная деятельность не закончилась на этой печальной странице его жизни. В течение многих лет он возглавлял кафедру физики Технологического института, собрал вокруг себя энергичную молодежь, участвовал в научных конференциях, поддерживал активные контакты с миром ученых.
Свыше сотни добротных публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях, несколько монографий, почетное звание "Заслуженный деятель науки", память о нем его учеников - итог жизни в Науке этого талантливого человека.
Эвальд Зеер
24.08.2015
Ссылка на фотолетопись Института - Лундин А.Г.